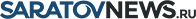Далёкое-незабываемое
Ушедшему на фронт из Хвалынска будущему кинематографисту белорусская гадалка предсказала удивительные повороты судьбы.
Автор этого биографического очерка — Анатолий Фёдорович Козак родился в Одессе в 1925 г. Во время Великой Отечественной войны семья оказалась в г. Хвалынске, откуда Козак из 10-го класса школы в феврале 1943 г. ушёл в армию. Служил в 11-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, участвовал в Венгрии в Балатонской операции — ликвидации танковой группировки противника.
В 1954 г. закончил ВГИК и свыше 50 лет проработал в отечественном кинематографе в качества сценариста.
Он автор сценариев таких известных фильмов, как «Берегите женщин», «Джек Восьмёркин — американец», «Макар-следопыт»… Проживает в Москве.
В августе 1944-го нашу воздушно-десантную дивизию перебросили из Калинина в белорусский городок Слуцк. Едва мы успели обжить cвой военный городок, как нас подняли по тревоге — предстоял марш-бросок в район села Любань, где начались учения «разведка боем» между «красными» и «синими».
Однажды тайком от командира отделения сержанта ВОРОПАЕВА мы собрали пайковый сахар, и меня отрядили в село совершить с местными жителями натуральный обмен.
Дойдя до ближайшей изгороди, я легко перемахнул через неё и огородами вышел на сельскую улицу. Она была совершенно пуста: ни кур, копошащихся в пыли у ворот, ни собак, ни души...
Неподалеку чернела покосившаяся коробка «вошебойки» — так называли тогда камеры для дезинфекции одежды. Но вид аппарата меня не смутил: такое можно было увидеть на каждом шагу. А вот полное безлюдье казалось странным. Был ли здесь вообще кто-нибудь живой?
Я выбрал дом побогаче и постучал, впрочем, не очень надеясь, что мне откроют. Однако на пороге показалась опрятная румяная крестьянка в пёстром платке и в сапожках с подковками. В хате за столом, тасуя карты, покуривал, пуская дым сквозь усы, мужик с лицом молодого ГОРЬКОГО.
Мне повезло: когда завершился обмен — за горсть рафинада — торбочка яиц и увесистый ломоть вкусного домашнего сыра, я угостился ледяной, из погреба, ряженкой, и мы дважды сыграли в подкидного.
— Как у вас тут немец — лютовал? — спросил я.
«Молодой Горький» поднялся, встал на табурет и полез за образа.
— Он у меня глухонемой, — сказала хозяйка, — его ни наши, ни немцы не трогали.
Между тем хозяин вернулся за стол и протянул мне книгу в твёрдом переплёте.
Это была изданная гитлеровцами на русском языке «Книга для крестьян».
В ней подробно излагалась земельная реформа, которую гитлеровцы собирались провести в белорусской деревне.
— Можешь взять её себе, — сказала хозяйка, — нам она без надобности. Бери, бери... Хотишь, я тебе погадаю? — предложила хозяйка, зажав в руках колоду карт.
В свои девятнадцать лет я уже знал, что гадание — вещь рискованная: нагадают хорошее — не поверишь, а плохое — будешь ждать каждый день, и всё же согласился.
— Вижу тебе дальнюю дорогу, будут высокие горы и речка. Прольёшь много крови, но не помрёшь, — обещала хозяйка. — Ещё будет тебе решётка: тюрьма. Опять дорога. С добрым другом будете искать женщину. Ни он, ни ты её никогда не видели и также её потеряете. Но он её знает. И потеряет навсегда. Зато потом подарит тебе другую — красавицу писаную. И не расстанешься ты с ней до глубокой старости.
Что за нелепицу предсказала мне гадалка! Горы, реки — это ещё куда ни шло, но остальное?.. Какие-то женщины... Найдём, потеряем... Ерунда какая-то. И решётка, тюрьма...
Так думал я, направляясь к выходу из села по главной его улице к арке, которую обычно ставили перед входом в деревни. Миновав её, уже выйдя в открытое поле, я машинально оглянулся и остолбенел: на столбе арке был прибит фанерный щит с крупной надписью: «ТИФ!!! ВЪЕЗД И ВЫЕЗД СТРОГО ВОСПРЕЩЁН!!! КАРАНТИН!»
Мне сделалось страшно. Вот почему село словно вымерло! Здесь прошла смертельная болезнь. А я ещё угощался у гадалки ряженкой!..
Дальше я двигался как во сне, ноги чудом донесли меня к нашим окопам. В голове стучало: «Конечно же, я заразился! Как теперь быть? Промолчать — значит, смерть. Сознаться Воропаеву о походе в запрещённое село — скандал, а заражение солдат тифом грозило трибуналом. Вот и обещанная тюрьма...»
Я никому ничего не сказал. Сообразил, что тиф-то был сыпной, а не брюшной! Вот почему здесь были дезкамеры для одежды. Злосчастная ряженка была не опасна!
Через два дня мы вернулись в Слуцк, но проклятое гаданье — ожидание неприятностей не проходило. И они случились даже раньше, чем я ожидал.
Как-то вечером перед отбоем меня подозвал сержант Воропаев:
— Послушай, ты ведь комсомолец?
Я кивнул, не понимая, к чему он клонит.
Он достал из тумбочки «Книгу для крестьян».
— Как же это понимать? Занимаешься антисоветской пропагандой? Сеешь вражескую агитацию?
Я похолодел. Как же я не догадался спрятать книгу подальше!
— Откуда она у тебя?
Я рассказал ему про поход в Любань.
— Похоже на правду, — сказал он, — но дела не меняет. Этим займётся трибунал.
«Вот и свершилось предсказание гадалки: тюрьма!»
Но дни шли за днями, меня никуда не вызывали.
А через неделю нашу дивизию срочно погрузили в эшелон и отправили в Венгрию. Ещё через месяц, уже на передовой, Воропаев был смертельно ранен.
Через два дня был ранен и я.
Гадалка не ошиблась: это было возле речки, в предгорьях Альп, на границе с Австрией. А ещё через месяц я оказался в госпитале на родине, в Ереване.
В один из июньских дней мы, трое «ранбольных», вылезли через окно на улицу и направились на базар. Разумеется, нас тотчас же задержал военный патруль и доставил в комендатуру. Нас арестовали и отправили на местную гауптвахту.
Никогда не забуду этот путь: автоматчик вёл нас по центру главной улицы на глазах у прохожих.
Железная дверь захлопнулась — мы оказались в тюрьме!
Моё сердце сжалось? Я съежился от страха?.. Это было похоже скорее на облегчение, чуть ли не радость овладела мной. Наконец-то сбылось ещё одно предсказание гадалки из далёкой Белоруссии, которого я, кажется, страшился больше всего! Горы, река, кровь позади. Теперь — тюрьма. Но какая! Не пройдет и часа, как нас освободят и вернут в госпиталь.
Так и случилось: нас снова отвели в комендатуру, а оттуда отправили в госпиталь.
Самоволка в город и «тюрьма» на первый раз завершились строгим выговором госпитального начальства.
Через месяц я был комиссован «по чистой» и выписан домой. Теперь надо было добраться в Саратов, а оттуда в Хвалынск, к родителям.
Но когда состав подкатил к перрону бакинского вокзала, оказалось, что двери всех вагонов наглухо заперты: посадки не было.
Тогда какой-то бравый морячок вскарабкался, поддерживаемый снизу, к окну одного из вагонов и нырнул туда. Через минуту дверь вагона отворилась.
— Давай, братва! — крикнул морячок, оттирая от двери растерянного проводника.
Состав тронулся. Я пробрался в середину вагона. Но что там творилось! Люди чуть ли не висели на всех трёх полках, лежали и сидели на полу, через них приходилось перешагивать. Духота стояла такая, что уже через час я стал мечтать о глотке воды. Пробраться на остановке в тамбур и выскочить, чтобы напиться на станции, означало больше в поезд не вернуться. Туалет же был забаррикадирован тремя уголовниками, один из которых — тучный человек на деревянной ноге — был, вероятно, паханом. Эти ребята засели в туалете, как в отдельном прохладном купе.
Наступил душный вечер. Я раскачивался на краешке полки в такт движению несшегося во тьме вагона, и с каждой минутой мною всё больше овладевала мысль: а стоит ли мучиться до Москвы ещё целые сутки? Может быть, оставить этот адский раскалённый вагон и добираться домой в Хвалынск другим, не таким мучительным путём?
Ночью я пробрался в тамбур покурить и разговорился там с солдатом без руки. Оказалось, ему тоже в Саратов! То, что у меня оказался попутчик, окончательно решило дело: надо выходить!
Василий (так звали солдата) предложил сойти на станции Тихорецкой. Было уже далеко за полночь, а поезд подходил только к Кавказской.
— Сойдём здесь, — предложил я, — сил больше нет.
— Потерпи, — попросил он, — у меня большой интерес на Тихорецкой.
На станции мы долго умывались холодной водой из водопроводной колонки... Развязав вещмешки в пустынном вокзальном зале ожидания, позавтракали сухим пайком.
Взошло солнце.
— Пошли, — сказал Василий, — тут, наверное, недалеко. Вот адресок.
Мы двинулись по полуразрушенным улицам Тихорецка. Василий рассказал, что два года переписывался с «девахой» по имени Аня (такое было принято в годы войны), и живёт она здесь, вот на той улице.
— Красивая? — спросил я.
— Не знаю. Она фото не присылала. Стесняется, видать.
Мы нашли Анин дом. Это было красное кирпичное здание казарменного типа, какие строили когда-то фабриканты для своих рабочих. Мы поднялись на третий этаж по лестнице, где пахло кошками и кислыми щами.
Было семь утра.
— Не рано ли? — засомневался я.
— Самый раз. А то ещё на работу уйдет.
Перед дверью Василий откашлялся, одёрнул гимнастерку, застегнул на все пуговки. Я подмигнул ему:
— Спокойно, Вася, всё будет «аллес нормалес».
— Чего-чего? — охрипшим голосом и почему-то шёпотом спросил он.
Вместо ответа я нажал звонок...
Мы стучали, наверное, минут десять, когда из двери напротив вышла старая бабушка.
— Вам кого, служивые, Анютку? А она только-только на станцию подалась. Выходной у них сегодня, они всей фабрикой картошку полоть поехали.
Пришлось вернуться на станцию. Там на дальних путях стояли платформы, а на них с хохотом и визгом толпились женщины с лопатами и тяпками.
— Эй, солдаты, айда с нами! — закричали оттуда.
— Вот она где, Аннушка, — пробормотал Василий, — да разве найдешь?
— А что? — сказал я, — сейчас шумнем — мол, фронтовой друг прибыл...
— Не смей, — оборвал меня Василий, — разве можно девушку позорить? Нет... Да я ведь и на личность её не знаю...
Старый паровозик свистнул два раза подряд, и платформы медленно за ним поплыли. Оттуда нам махали сотни рук...
Потом, греясь на солнышке, мы ждали поезд на Сталинград, откуда надо было добираться пароходом в Саратов.
— Может, останемся, подождём? — предложил я.
— Нет. Ждать и догонять — последнее дело. А потом... кому я нужен такой... калека? Значит, не судьба.
Днём мы сели в местный полупустой поезд, разлеглись по-барски на полках, стащили гимнастёрки, разулись...
Иногда, может быть, в День Победы, я вспоминаю эту поездку и даже пытаюсь представить жизнь девушки Ани из Тихорецка.
Узнала ли она тогда, кто приходил к ней тем летним утром? Или так и ждала, надеясь: а вдруг Василий приедет? Или, может быть, вскоре посчитала его убитым и осталась одна? А может, наоборот, удачно вышла замуж? И теперь уже старая седая женщина, бабушка иногда показывает своей взрослой внучке его старенькие письма-треугольнички, даже не подозревая, что ведь вот он, стоял за этой дверью и разминулась она со своей судьбой всего-то на полчаса...
В Сталинграде до нашего парохода оставалось несколько часов. Я помнил, каким этот солнечный город был в 41-м, когда эвакуация занесла на неделю сюда нашу семью. Запомнились нарядная площадь Павших борцов, густая пряная зелень скверов и жаренные пирожки с горохом, которые продавали на каждом углу.
Теперь мы с Василием расположились прямо на середине той самой площади на хрустящей под ногами, выжженной солнцем травке в окружении гигантских руин бывших домов.
Невдалеке, стуча деревянными подошвами, длинная серая колонна пленных немцев прошагала разбирать завалы.
Василий достал из мешка фотографию величиной с почтовую открытку. На ней была запечатлена танцующая тонкая, словно былинка, нежная молодая женщина.
— Аня? — спросил я, разглядывая.
Он перевернул открытку. Это было дешевое издание какой-то венгерской кинофирмы, запечатлевшей то ли балерину, то ли кинозвезду.
Мой случайный попутчик надписал открытку и отдал мне.
А я подарил ему... розовый овальный брусок туалетного мыла, купленный ещё в Будапеште рядом с госпиталем. Смешно, но тогда это был подарок!
Теперь Василий направился в Петровск, а я — в Хвалынск.
Иногда, разбирая домашний архив, среди орденов и медалей я встречаю эту поблекшую открытку: «На долгую память от Жукова Василия Фёд. 28/VIII-45 г.».
Венгерская красавица всё танцует... Я смотрю на эту призрачную, зыбкую тень далёкого-далёкого прошлого и думаю: «А ведь как бы то ни было, но всё предсказанное в Белоруссии сошлось: мы с Василием потеряли женщину, которую никогда не видели, и я храню подаренную им «красавицу»: вот она, на открытке, уже долгие, долгие годы…»
Попробуй после этого не верь деревенским гадалкам!
Анатолий Козак