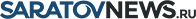Слишком поздняя осень Ивана Бунина
80 лет назад русская литература получила первую в своей истории Нобелевскую премию
Так уж вышло, что все ключевые даты жизни Ивана Алексеевича выпадают на позднюю осень: 22 октября 1870-го — дата рождения, 9 ноября 1933-го присуждена первая в отечественной литературе Нобелевская премия, и даже смерть — это тоже осень: БУНИНА не стало в канун 20-летия его «нобелевки», 8 ноября 1953 г. Человек, отрицавший советскую власть глубже, ярче и прочувствованнее всех на планете, родился в один год с ЛЕНИНЫМ и умер в один год со СТАЛИНЫМ. Парадокс…
Нет смысла в миллионный раз говорить о БУНИНЕ как о литераторе (все и так знают, а кто не знает, уже и не надо узнавать): тонкий лирик, блистательный стилист, глубокий мыслитель, словом, фигура мирового масштаба и национальная гордость России. Но есть и другой Бунин, который в непростое наше время подчас неожиданно оказывается актуальнее, острее и пронзительнее Бунина-литератора: Бунин-публицист, неизвестный в нашей стране до 1990 г.
В этой стихии он совсем другой. Крайне пристрастный и тенденциозный, никогда не дававший себе труда сдерживаться, уклоняться от откровенности, прикрываться жирно лоснящейся личиной ханжества, как иные его коллеги по писательскому цеху, причем порой литераторы сопоставимого с Иваном Алексеевичем калибра (назовем их чуть ниже, да и так понятно, о ком пойдет речь). Именно через призму бунинской публицистики, его политических убеждений перспективно рассматривать Нобелевскую премию, честно заслуженную им ровно 80 лет назад, в ноябре 1933 г. Первую русскую литературную «нобелевку».
Премия для изгнанника и «парад» для оставшихся
Все знаковые события жизни И.А., да и сама его смерть выпали именно на осень — время года, которое он любил описывать с таким блеском, с таким нервом. «Девятого ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме телефон известил меня о решении Шведской академии», — именно так начал 80 лет назад Бунин свою нобелевскую речь в Стокгольме. Разумеется, он не сгущал краски про «бедный» и «деревенский». Не секрет, что Нобелевская премия, на которую Бунин выдвигался в 1922-м (к слову, по инициативе нобелевского лауреата-1915 Ромена РОЛЛАНА), в 1926-м, 1930-м и 1931 гг., рассматривалась самим Иваном Алексеевичем и его ближайшим окружением едва ли не как единственное средство поправить свои, гм, более чем скромные финансовые дела.
В этой связи существует не очень приглядная легенда, ходившая в окололитературных кругах много десятилетий тому назад. В 1932 г. другой российский литератор-эмигрант, рассматривавшийся в качестве кандидата на НП, Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ, предложил Бунину заключить соглашение. Суть его состояла в том, что премия делится между двумя ее соискателями вне зависимости от того, кому она достанется. Своеобразная денежная страховка.
Разумеется, Бунин отказался. Деньги деньгами, но было и другое: «…со мной происходило то, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой (эмигрантской. — Авт.) России событием истинно национальным», — писал он в своих воспоминаниях.
На родине на премирование Бунина имели принципиально иной взгляд. Вот несколько фирменных рулад из советской прессы: «Белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру матерого волка контрреволюции Бунина, чье творчество, особенно последнего времени, насыщенное мотивами смерти, распада, обреченности в обстановке катастрофического мирового кризиса, пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев», — живенько, как сказали бы сейчас в среде Рунета, «набрасывала на вентилятор» авторитетная «Литературная газета».
Советский Союз, справедливо дистанцировавшийся от «катастрофического мирового кризиса», конечно, подпитывался иными литературными мотивами. Не за горами I съезд советских писателей (сентябрь 1934-го), на котором гениальный Максим ГОРЬКИЙ, отчаянно лукавя и используя все свое колоссальное красноречие и эрудицию, чтобы это замаскировать, вещает о «пролетарском гуманизме» и о создании новой литературы. В кулуарах съезда распространялась листовка поразительного содержания: «Мы, русские писатели, напоминаем собой проституток публичного дома с той лишь разницей, что они торгуют своим телом, а мы душой». «Так как все это делается искусственно, из-под палки, то съезд проходит мертво, как царский парад», — говорил его участник Исаак БАБЕЛЬ. Остроумнейший Михаил КОЛЬЦОВ выступил в остросовременном экономическом ключе: «Я слышал, что Алексей Максимович (Горький. — Авт.) открыл пять вакансий для гениальных и сорок пять для очень талантливых писателей. Уже началась дележка».
Одну из «гениальных» вакансий без труда — и, разумеется, совершенно заслуженно — забрал под себя Алексей ТОЛСТОЙ. К чему я называю эти имена? К тому, что и Толстой, и Горький в том же 1933 г., да и, по сути, все 20-30-е годы рассматривались в качестве серьезных кандидатов на Нобелевскую премию. В масштабе, в блистательном мастерстве этих мастеров прозы сомневаться не приходится. Но дадим слово Бунину: «В последний раз я встретился с ним (Алексеем Толстым. — Авт.) в ноябре 1936 года, в Париже <…>
— До каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? <…> Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля. Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?
Я поспешил переменить разговор…»
В этом весь Бунин. Человек, руководствующийся честнейшим внутренним законом, который не повернешь, как дышло. Не способный примениться к глубоко чуждым ему условиям, мимикрировать, как тот же «красный граф» Толстой, как отчасти Горький, начинавший с жесточайшей критики большевизма в 1918-м. По масштабу они равны Бунину. По верности самим себе, своим корням — глубоко под ним. «Толстой врал всегда беззаботно, легко, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть не рыдал Горький», — напишет злой, справедливый, несгибаемый Бунин.
Невозвращение на родину
Повторюсь, очень пристрастен и ярок страстями Иван Алексеевич. Про чрезвычайно ценимых мною БЛОКА, МАЯКОВСКОГО, ЕСЕНИНА он пишет еще более уничижительно. Не скрою, иные желчные его строки, при всей любви к Бунину, принимаются тяжело, с сопротивлением, с оторопью: а что же он их так-то?
…У него нашлись и силы, и повод пересмотреть свои крайние взгляды на советскую действительность и советскую литературу. Повод был страшный, повод был неотразимый: «Вы должны знать, что 22 июня 1941 года я, написавший все то, что писал до этого, в том числе «Окаянные дни», по отношению к тем, кто ныне правит Россией, навсегда вложил шпагу в ножны», — приводит слова Бунина, сказанные им при личной встрече, Константин СИМОНОВ.
Бунин решительно поддержал Советский Союз в его войне с фашизмом. Он забыл всю ненависть к строю, к власти, к порядкам, господствующим на территории его отечества. На последние деньги, уцелевшие от растраченной, розданной Нобелевской премии, он купил мощный радиоприемник и каждый день слушал Москву, скорбя и радуясь, ликуя и надеясь. В военные годы он прочитал сочинение своего знакомого «парижского враля», кичащегося своим богатством в нищей стране, — гениальный роман Алексея Толстого «Петр I», прославляющий сильную реформаторскую власть и роль большой личности в истории. Восхищался… Кто знает, о чем тогда думал Бунин? О колоссальной, несмотря ни на что, фигуре Ленина, которого он титуловал «нравственным выродком» и восклицал: «О, какое это животное!» О грозной личности Иосифа Сталина, чью роль в приближавшейся Победе сложно было недооценить? Так или иначе, но в
1945 г. Бунин получил советское гражданство и готовился к возвращению на родину. Он прибыл в советское консульство в Париже, где, по свидетельству его супруги Веры Николаевны, столкнулся с Симоновым. Последний начал с риторического вопроса: «На что вы истратили лучшие годы? На борьбу с нами?» — и в таком назидательном духе принялся отчитывать нобелевского лауреата.
Иван Бунин достал из кармана свой новенький советский паспорт и разорвал его.
Поздно. Слишком поздно было возвращаться.
Бунин как «мина замедленного действия»
В последние годы на фоне все крепнущей, все более безудержной апологии всего советского снова стало модно утверждать, что Нобелевская премия, в особенности ее литературная ипостась — это инструмент политической воли, что в выборе лауреата огромную роль играли и играют идеологические критерии, перевешивающие качество текста. Кстати, во многом это мнение справедливо. Вот потому и не дали Горькому («Дать Горькому — дать Советской России!»), вот потому и не дали нашему земляку, уроженцу Николаевска, ныне Пугачева, беззастенчивому «красному графу» Алексею Толстому. Хотя надо было.
Более того, России еще повезло в том, что все пять литературных премий вручены по-настоящему выдающимся литераторам, а не отечественным аналогам, скажем, Герты МЮЛЛЕР или Жана-Мари ЛЕКЛЕЗИО. Не слыхали? А ведь это все нобелевские лауреаты. (Впрочем, если уж говорить об иностранцах, «несправедливо» удостоившихся НП, нужно начинать с лауреата-1906 Джозуэ КАРДУЧЧИ. Этот бойкий итальянец получил премию вместо величайшего писателя планеты Льва ТОЛСТОГО, который попросту отказался принимать «нобелевку».)
В наше время возобладала и другая концепция. Тенденциозная и печальная. «Но взойдет наше солнце — нет среди нас ни единого, кто бы не верил в это!» — писал в свое время Иван Алексеевич. Председатель попечительского совета Бунинской премии, ректор Московского гуманитарного института Игорь ИЛЬИНСКИЙ обратился к классику с удивительными словами: «Вот оно взошло, Ваше солнце, Иван Алексеевич!.. И что же мы видим в его сияющих лучах? Воистину сказочные богатства страны разворованы, розданы в загребущие, но неумелые руки по преимуществу бездарных и порочных людей, ухлопаны на взятки, заказные убийства, на рекламу, на выборные технологии и откровенную пропаганду нового режима. Могучая экономика, мощнейшая промышленность, построенные за небывало короткие сроки, с крайним перенапряжением сил за счет здоровья и жизней миллионов людей, уничтожены. <…> Ах, милый Иван Алексеевич! Вот взошло ваше белое солнце, вернулось в Россию время господ, но чрезвычайно редко кто решается обратиться к другому словом «господин». Мало, безумно мало тех, кто чувствует себя господином в этой жизни, несколько десятков, ну, может, сотня тысяч на всю 140-миллионную Россию…» — конец цитаты.
Эти слова исчерпывающе характеризуют версию о том, что бунинская публицистика якобы послужила в 90-х эффективным и неотразимым оружием разрушения советского наследия, советского уклада. Что при помощи отточенного бунинского слова в головы целому поколению вбивалась неправедная ненависть к советской власти, к революции и персонально к товарищу Ленину; что при помощи Бунина, его безоглядного отрицания, было разрушено базовое мироощущение предыдущих поколений, «сделанных в СССР», их ценностная база; попраны его идеалы и т.д. и т.п.
Ну что тут сказать? Конечно, мне не по чину ввязываться в заочную полемику с человеком безусловно уважаемым, заслуженным, авторитетным. Конечно, нет никакого смысла оспаривать факты бедствий и катаклизмов новейшей российской истории. Но есть устойчивое ощущение того, что товарищ профессор лукавит. С эпитетом «милый», с притягиванием местоимения «Ваше» к живо разбросанным по цитате описаниям ужасов российской действительности. Ах, милый Игорь Михайлович! Вот ответная цитата из авторитетного источника, приведенная человеком, чьим именем названа вручаемая Вами премия: «Мир, мир, а мира нет. Между народом моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей…» — это Книга пророка ИЕРЕМИИ, процитированная в «Окаянных днях».
Этот текст, написанный две с половиной тысячи лет назад, читал и перечитывал в феврале 1918-го, в страшной, разгромленной, сдавшейся Москве Иван Бунин. Там и далее, из того, что Бунин не цитировал напрямую, — удивительные слова: «Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана; чрез это они и возвысились и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот; благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда».
Все это разительно соответствует ряду нынешних российских реалий. Неужели кто-то действительно думает, что Бунин посчитал бы низкое и тусклое солнце, взошедшее над постсоветской Россией, — СВОИМ?.. Нам, любящим классика и чтящим его память, по-прежнему остается лишь надеяться, что оно, это низкое солнце поздней, слишком поздней российской осени когда-нибудь взойдет по-настоящему.
Антон Краснов